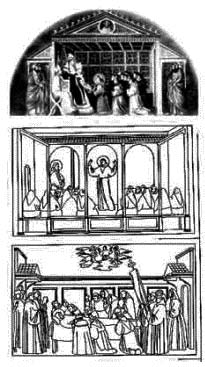| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| ← предыдущая следующая → |
Картина пространства
Перспектива должна предшествовать всем наукам.Леонардо да Винчи
Благодаря живописи стало понятным измерение земли, вод и звезд, и еще многое раскроется через живопись.Альбрехт Дюрер
Все новоевропейские картины, какие мы видим в музеях, за исключением созданных в ХХ веке, выстроены по закону центральной перспективы. Это значит, что среди всех точек картины есть одна особая, выделенная — центральная или, как называется она в современных пособиях по технике живописи, главная точка картины. К ней сходятся все линии изображенного предмета, перпендикулярные плоскости картины, при их неограниченном мысленном продолжении. Поэтому ее называют также точкой схода. В туннеле метро или на горизонте железной дороги это место, куда сбегаются рельсы. Наличие такой точки отличает все картины Запада от картин Востока, а внутри западноевропейской культуры — картины Нового времени от всех предшествующих изображений. Поэтому ее понимание дает ключ к специфике новоевропейской живописи, а во многом и нашей культуры. Будучи структурным узлом изображения, точка эта сама по себе невидима, но ее расположение в перспективной картине всегда можно установить. Сегодня она строится вполне осознанно: художник не только отдает себе отчет в наличии главной точки своей картины, но тщательно к ней прицеливается на подготовительной стадии работы. Смыслом этой точки нынешние художники интересуются не больше, чем физики — смыслом своей координатной системы. Но если этот смысл не слишком был ясен и ее открывателям1, то все же они прекрасно осознавали и сполна переживали ее сокровенное значение.Формально центральная перспектива определяет правила построения в художественном пространстве иллюзии «глубины»: это правила чтения двумерной плоскости полотна как картины трехмерного объема. Вообразите шахматную доску, поставленную на ребро к вам лицом. Если ее наклонять к горизонту в направлении от вас, вы увидите, как верхняя часть шахматного поля станет уменьшаться в размерах, так что дальние клетки будут казаться меньшими, чем ближние. По какому закону происходит это уменьшение? Такая проблема вставала перед средневековыми мастерами при изображении паркетного пола, а также любого архитектурного интерьера. Центральная перспектива дает однозначное решение этой проблемы, постулируя пересечение всех мысленно продолженных параллельных прямых, уходящих от зрителя, в единственной точке.
В ретроспективе все развитие позднесредневековой живописи можно описать как слепой поиск этой таинственной точки. Можно проследить, как поле поиска, содержащее точки схождения параллелей, со временем устремляется к единственной точке. В историческом развитии композиции тенденция эта едва ли не основная. И все же центральная перспектива открыта не профессиональными живописцами, а дарована им извне — это теоретическое открытие флорентийского инженера и архитектора Брунеллески. Не исключено, что не будь этого открытия, художники вечно блуждали бы возле этой точки, как не перестали они этим заниматься и некоторое время спустя. Описал это изобретение Леон Батиста Альберти — архитектор и первый теоретик художников-перспективистов, которые, по его словам, «вынуждены без учителей и образцов открывать искусства и науки, о которых мы раньше никогда не слышали и которых раньше не видели». Стоит посмотреть, как именно он это делает, потому что система, в какой уже Леонардо да Винчи запутывается, у него еще совершенно прозрачная. Именно здесь начинается радикальное обновление живописи и, как мы далее увидим, науки. Картину Альберти конструирует как сечение оптической системы, связывающей предмет с глазом и обеспечивающей однозначное соответствие точек зримого образа точкам видимого предмета. В традиционной оптике, на какую он ссылается, это соответствие достигается тем, что каждую точку предмета доставляет глазу единственная прямая — зрительный луч.
«Поищем для этого основания, начав с суждения философов, утверждавших, что поверхности измеряются некими лучами…, которые передают чувству форму предметов… Эти лучи — как бы тончайшие нити, образующие с одной стороны подобие ткани, а с другой — очень туго связанные внутри глаза, там, где помещается чувство зрения, а оттуда, как из ствола всех этих лучей, этот узел распространяет прямейшие и тончайшие свои ростки вплоть до противолежащей поверхности»2.
Итак, вместе зрительные лучи образуют пирамиду (или конус — в зависимости от очертаний поверхности) с вершиной в глазу и основанием на поверхности видимого предмета. Крайние лучи этой пирамиды упираются в контур видимого предмета, измеряя, подобно ножкам циркуля, его протяженность.
«Эти наружные лучи, окружая поверхность таким образом, что один касается другого, замыкают собой всю поверхность, как ивовые прутья клетку, и образуют то, что я называю пирамидой». Средние лучи передают глазу цвет и освещенность предмета. Из них особенно важен «центральный, самый сильный и яркий, князь лучей» — только он «упирается в протяжение так, что все углы во все стороны равны». Этот перпендикуляр, падающий из глаза на видимый предмет, и определяет на картине место ее центральной точки. Чтобы его найти, достаточно взять карандаш и острием направить его на картину так, чтобы остался видимым только его торец. Более точную проекцию видящего в видимое обеспечивает боевое оружие с мушкой на стволе и прицельной прорезью.
Как эта точка попала в картины? Сегодня схождение параллелей можно видеть на городских проспектах, в тоннелях, железнодорожных путях, автомобильных трассах, линиях электропередач — всюду, где поработала техника. Но на исходе средневековья его прообразом могли служить разве что борозды вспаханного поля, на какие ссылался Леонардо. Центральная точка считана была, скорее всего, с архитектурных сооружений — при мысленном неограниченном продолжении их тектонических линий. Эта умственная акция была, безусловно, гениальным прозрением. Требовалось откровение, чтобы, решившись на мысленное продолжение форм материального тела, сообразить, что определяющие его параллели пересекутся в единственной точке — изображении самого глаза.
«Каждая поверхность, — заключает Альберти, — несет свою пирамиду цветов и светов». Этим резюмируется основное положение геометрической оптики, закрепленное еще Евклидом. Однако Альберти впервые в истории оптики изображение трактует как сечение этой пирамиды. Он замечает, что во всех фронтальных ее сечениях должно сохраняться идентичное распределение света и цвета: «где бы ты их ни рассек, всюду найдешь их одинаково освещенными и окрашенными». Световая пирамида сама переносит в глаз форму предмета — достаточно это потенциальное изображение сделать актуальным. У живописца, настаивает Альберти, «нет иной задачи, кроме той, чтобы представить формы видимых вещей на поверхности картины не иначе, как если бы она была прозрачным стеклом, сквозь которое проходит зрительная пирамида». Это задача, так сказать, на материализацию призрака.
Допустим, в окно я вижу дерево. Живописное изображение дерева будет правильным, если можно его вставить в оконный проем вместо стекла, и подмена окажется визуально незаметной. Вид из окна можно заменить картиной. В этом и состоит неслыханное нового искусства. Сформулирован точный метод построения совершенного живописного произведения. Отныне живопись становится делом совершенно рациональным, допускающим математический расчет и эмпирический контроль над его верностью.
Отсюда алгоритм построения3. «Сначала там, где я должен сделать рисунок, я черчу прямоугольник такого размера, какого хочу, и принимаю его за открытое окно, откуда я рассматриваю то, что будет на нем написано». Этим ограничивается поле зрения или, что то же, устанавливаются размеры сечения зрительной пирамиды. «Затем внутри этого четырехугольника, там, где мне вздумается, я устанавливаю точку, которая занимала бы то место, куда ударяет центральный луч, и потому называю эту точку центральной».
Так фиксируется точка зрения у будущего «вида из окна». Ведь форма зрительной пирамиды определяется не только ее основанием, но и расположением ее вершины. Проекцией этой вершины в картину и служит ее главная точка. На третьем, и последнем шаге нулевого цикла к этой центральной точке проводятся прямые от основания картины, разбитого на равные промежутки. Так размечается горизонтальная плоскость картины для размещения действующих фигур. «Эти линии показывают мне, каким образом изменяется каждое поперечное протяжение, как бы уходя в бесконечность». Это построение Альберти увенчивает «правилом деления пола», давая точное решение давно мучившей художников проблемы: изображение паркета. Основывается правило на том заключении, что продолжение всех диагоналей изображенных квадратов сойдется тоже в единственной точке на линии горизонта, и притом на расстоянии, равном расстоянию зрителя от картины. Этим Альберти завершает первую главу своей знаменитой книги о живописи — манифест нового искусства, показывающий, «как живопись вырастает из глубинных корней природы».
Построено картинное пространство, еще не возмущенное никакими фигурами, а лишь размеченное сетью вспомогательных линий. Вот эта конструкция, невидимая в окончательном изображении, но определяющая его структуру, и разделяет всю историю живописи на две эпохи — «до» и «после» ее открытия. Все картины, которые «после», даже если с них удалить изображения вещей, изображают «вещь» совершенно абстрактную, но сопричастную всему зримому, — трехмерное евклидово пространство. Определяют «магический кристалл» новой культуры.
Чтобы прояснить его смысл, центральную точку описанной конструкции соединим не только с нижним, но и со всеми остальными краями картины. Мы увидим совершенно регулярную структуру: множество прямых, сходящихся в одну точку и связывающих ее со всеми остальными точками полотна — ивовую клетку Альберти. Центральная точка словно связывает собой все прочие точки картины. Каждая проходящая через нее прямая уходит в бесконечность. Любая фигура, если от зрителя ее удалять в направлении его взгляда, будет уменьшаться в кажущихся размерах, скользя по этим линиям как по рельсам, пока не исчезнет — поэтому точку, где все сливается воедино, называют еще точкой исчезновения. Это символическое изображение зрения.
Замечательна сама конструкция, посредством которой Брунеллески, глава школы экспериментирующих художников, флорентийским интеллектуалам презентовал это открытие4. На небольшой доске он тщательно изобразил в перспективе знакомое горожанам здание баптистерия (городской крещальни), расположенное на центральной площади города. В точке исчезновения изображения он просверлил небольшое конусообразное отверстие, а перед лицевой стороной картины параллельно ей закрепил плоское зеркало. Посвящаемый в тайну перспективы с тыльной стороны картины смотрел в конус ее отверстия. В зеркале он видел картину баптистерия, а в главной точке, символизирующей бесконечность, узнавал собственный глаз.
Считается, что таким способом проверялась правильность перспективного построения (так, например, у В.Н. Лазарева). Но трудно поверить, что гениальный инженер для столь элементарной задачи не нашел бы решения более простого. И Альберти, и Леонардо знали, что для этого достаточно просто увидеть картину в зеркале. Зачем же ее сверлить? Правдоподобнее допустить, что это хитроумное сооружение демонстрировало не правильность перспективного изображения, а его философский смысл. Что явно, так это совершенно наглядное, предметное совмещение точки зрения с центральной точкой картины. Самая простая из мыслимых демонстрация того факта, что всякое перспективное изображение скрывает в себе видящий глаз5. Это метафизический прибор для натурализации символа — раскрытия перспективы как символической формы.
Значение центральной перспективы осознано сравнительно недавно — не ранее, чем было доказано, что это не единственно возможное рациональное основание живописи. Где-то до конца XIX века художники ее просто не замечали, как не замечаешь воздуха, которым дышишь, или грамматики родного языка. Вопрос о ее метафизике зародился по мере обострения интереса к иконописи. Слишком резко художественное совершенство иконы контрастировало с явной ее неспособностью изобразить евклидово пространство. Вопреки всем правилам центральной перспективы, параллельные линии в изображении книг, седалищ, столов и зданий либо вообще не сходились, либо сходились не там, где надо — часто даже в пространстве зрителя, отчего средневековая перспектива и стала называться обратной. Некоторое время с этим просто мирились, как мирятся с орфографическими ошибками в писаниях святых. И только в 20-е годы прошлого века, наконец, разобрались, что за кажущимися ошибками в изображении пространства скрывается другая грамота письма. Сделали это, независимо друг от друга, П. Флоренский и Э. Панофский, поставив вопрос о символическом содержании перспективных форм. Центральная перспектива символизирует абсолютное пространство Ньютона — таково заключение Панофского6. А по Флоренскому, «хищнически-механическое» мировоззрение Леонардо-Канта7. Но если и вправду оно так, то как же центральная перспектива могла зародиться в сакральном искусстве? Конструкция Альберти лишь закрепила результаты многовекового искания этой пространственной формы внутри средневековой живописи. Известно, что она сформировалась при изображении архитектурного интерьера8. Но что такое интерьер как предмет живописи?
Чтобы ответить, позволим себе следующее обобщение. Подобно тому, как в любой классической картине, скажем, в ландшафте, выделяются три пространственные зоны: ближняя, средняя и дальняя9, можно в ней выделить также три тематических плана. Разнообразие изображаемых предметов варьироваться может бесконечно, но если заручиться их разделением на два основных класса: люди и вещи и, далее, различением в этих последних произведений природы и человека, то в классической «полной» картине легко обнаружить последовательность трех предметных (а в некотором смысле и онтологических) слоев: человек → культура → природа. Человек вложен в культуру, а культура — в природу (человек — часть природы). Так представляет себе мир человек Нового времени. Подобно системе «естественных мест» в космологии Аристотеля, эта схема определяет топологию картинного пространства.
Некоторые из этих планов в той или иной картине могут отсутствовать, но если требуется их изобразить совместно, то друг в друга они встраиваются в указанном порядке. Во всяком случае, этот порядок служит нормой, отклонение от которой семантически релевантно. Натюрморт, например, соотношение между культурой и природой меняет на обратное: факт природы изображается внутри артефакта; но природа при этом сразу становится «мертвой»10. Что же до человека, то его тело есть факт природы, а его одежда — культуры: раздевание человека в искусстве Нового времени так же манифестирует его природу, как культуру — фиговый листок.
Интересна роль среднего плана: предметной культуры, отделяющей человека от природы. Ибо картина как факт культуры сама принадлежит тому, что она изображает своим вторым планом, который в нее как бы рефлектирует11. А для нашей задачи этот слой примечателен тем, что только он действительно нуждается в центральной перспективе12. Скажем прямо: изображение человека, тем более обожествленного, в центральной перспективе не нуждается. Определяет она размещение человеческих фигур в пространстве, но не сами эти фигуры; организует форму механическую, но не органическую. Поэтому незнание перспективы досаждало инженерам, а не художникам. Достаточно взглянуть на средневековое изображение какой-нибудь машины, к примеру, мельницы, чтобы увидеть, как развитие техники затруднялось из-за отсутствия правил проекции.
Итак, в новоевропейской картине друг сквозь друга просвечивают, вообще говоря, три качественно различных смысловых слоя: первый соответствует образу человека, второй — вещи (артефакта) и третий — природе. В совокупности они исчерпывают все возможные в новоевропейской картине предметы изображения. Соотношение этих слоев и определяет в нашем сознании ситуацию человека в мире13.
Тут важно, что если человек и его мир изображаются на фоне природы, то это имеет смысл вложения части в целое. Ничего подобного нет в классическом средневековом искусстве. «В иконе всегда есть три зоны, символически обозначающие землю, церковь и небо. Эти зоны могут быть представлены, могут лишь подразумеваться, но потенциально они всегда в иконе присутствуют. Иногда к ним добавляется изображение преисподней»14. Притом культура природу объемлет. Последняя, будучи тварной, в первую вклаывается, ибо несет на себе черты искусственного происхождения и грядущего преображения.
Как это выражается визуально? В картинном пространстве небо находится выше, а земля — ниже линии горизонта. А на иконе линии горизонта, как правило, вовсе нет, как нет и субстанционального различия между землей и небом — равным образом они представляют мир плотский. В этом смысле облака и светила не менее, чем реки и деревья, принадлежат миру земли. В конечном счете это более или менее правдоподобные декорации, и в судный день они свернутся в свиток. Само же «небо» человеку предстоит только в облике церкви. Земное явление небесного царства изображают сам по себе храм, сцены священной истории, икона. Поэтому как в летописях «описания небесного пейзажа встречаются гораздо чаще, нежели описания пейзажа земного»15, так и в иконописи. А влечение к небу и глубокое знание неба выражаются в красочном ее колорите. Землю с небом соединяют лещадки или «иконные горки», символизирующие путь духовного восхождения. Не потому ли фон иконы так часто выглядят помесью геологии с архитектурой? Горы икон гранятся подобиями портиков, башенок, зубчатых стен, лестниц. На зрителя круто вздымаются склоны с гладкими срезами скалистых вершин — площадками довольно правильной, обычно трапециевидной, формы, почему-то расщепленными посредине. Поверхность стояния также дробится на множество плоскостей, часто подчеркнутых пробелами. Ритмическая и орнаментальная функция лещадок несомненна, но в них угадывается также действие некой иной
синтетической формы. Согласно концепции Жегина, расщепление лещадок можно понимать как формальное следствие «мысленного свертывания» плоскости иконы в сферическое ее смысла, вовлекающего зрителя внутрь себя: такое преобразование, если его мыслить формально, не может происходить без разломов зданий и земной коры16. Иконные горки — это своего рода сакральная геология. Собственно архитектура — предметный мир человека — в иконопись входила через палатное письмо. Изображение здания служило обозначением места действия, поэтому чаще всего оно встречалось — в роли архитектурных кулис — в повествовательных клеймах. Однако, втягиваясь в художественное единство, здание подчинялось его законам: архитектурное тело вторит очертаниям главных фигур, резонирует с ними и строится по «силовым линиям» сюжета. Вершины зданий вытягиваются пропорционально высотам фигур, их срезы следуют склонениям персонажей и т. д. Здания раскрываются, склоняются и движутся так, как телом человека направляется облекающая его одежда. Фигура вписывается в здание, как душа в тело. По точному наблюдению Даниловой, архитектура в средневековой живописи «играла роль смысловой и ритмической эманации персонажей»17. Акцентируется исконная функция архитектуры — служить человеку искусственным телом, его внешней, подобно одежде, оболочкой. С фигурой здание связывается более тесно, чем с тектоникой самого пространства, поэтому иконописную архитектуру часто невозможно построить — полностью обособить от фигуры. Фон священной фигуры живет как его драгоценная оправа, знак ценности, — недаром он так легко перерастает в ювелирно выполненный оклад.
Однако все сказанное относится исключительно к внешнему виду зданий. Священные персонажи изображаются на фоне храма даже в том случае, если действие происходит внутри18. Архитектура внутреннего пространства никогда не изображается. «Среди памятников византийского круга нам неизвестно ни одного изображения интерьера в строгом смысле этого слова»19. Когда человек изображается на фоне архитектуры или природы, это вовсе не значит, что в них он «вкладывается» как часть. Намерением избежать вложения человека в вещь и можно объяснить негласный запрет всей ранней средневековой живописи на изображение человека в интерьере.
Появляется оно лишь в конце XIII века в римской живописи круга Каваллини, «почти с внезапностью моды. Появление интерьера в живописи, — резюмирует В.Н. Лазарев, — знаменует собой подлинную революцию. Впервые после античности фигура заключается в конкретную пространственную среду, четко ограниченную и вполне реальную»20. С того времени человека изображают в искусственном мире, им самим созданном.
Персонажи иконописи живут в пространстве храма: «изображения не просто вписываются в очертания стен, сводов, арок — своими силуэтами, движениями фигур, их жестами они зрительно воплощают, усиливают ритм архитектурных форм. Они не внешни по отношению к архитектуре, не прикладываются к ней, но словно порождены архитектурными ритмами… Образы, созданные живописцем, живут в той же реальности, что и архитектура, они живут на ней, вместе с ней, ее пульсом, ее ритмами, ее дыханием; они взлетают вверх там, где поднимается вверх стена, они опускаются вниз, когда опускается вниз стена, уходя под арки, погружаясь в темноту. Нечто подобное можно найти во владимирских фресках Андрея Рублева, где фигуры ангелов парят вместе со сводом над головой присутствующих, а апостолы наклоняют головы именно в том месте, где стена, наклоняясь вперед, переходит в свод».
Вот от такого-то пространства изолирует персонажа рама интерьера. «Истолкование пространственных исканий Джотто как попытки создать некую «объективную» не зависимую от фигур пространственную среду, некий «мир в себе» составляет отправную точку почти всех исследований о творчестве Джотто»21. Ранние изображения интерьера обозначали «место» персонажа именно в Аристотелевом смысле — как «первую неподвижную границу объемлющего тела». Ситуация начинает меняться, когда осознается не сакральное, а функциональное назначение изображенных построек. «И было бы ошибочно, — замечает Альберти во второй книге о живописи, — если бы, как я это часто вижу, человек был бы заключен в здание как в футляр, в котором он и сидя едва помещается». Между персонажем и его сакральным местом вклинивается и постепенно расширяется зазор пустого пространства — мир суверенности человека. Емкость интерьера у Джотто еще очень ограничена.
«Пространство любой джоттовской фрески можно заключить между двумя недалеко друг от друга отстоящимиплоскостями, и ни одна фигура, ни одна пейзажная или архитектурная кулиса не выходит за их пределы». Тем не менее сделано главное: с тех пор все фрески, независимо от их сюжета, включают в себя изображение одного предмета — ящика перспективного пространства. В отличие от театральных, архитектурные кулисы Джотто обозначают не целое мира, а выделенную человеку часть. Образуют они «внутреннюю раму» изображения, какую художник может перемещать по своему усмотрению, не нарушая сакральной «системы естественных мест». Как «сцена в сцене», внутри мира, созданного богом, она очерчивает собственный мир человека, рационально ему соразмерный. Чтобы ее изобразить — построить прямоугольные плоскости, связанные прямыми углами — потребовалась разработка совершенно новых, специфически чертежных, приемов живописи. Внутри иконописного пространства возникает новая тектоническая ячейка, чьей идеальной формой является ренессансный куб. В пространстве храма пробивается перспективная брешь с новой организацией смыслов.
Ранний интерьер на зрителя разомкнут, представляя ему «вид на человека». Но далее в задней стенке перспективного ящика пробивается новое окно, теперь открывающее «вид на природу». Это новый акт рефлексии, еще одна «сцена в сцене» — еще одна линза, вправляемая в перспективную трубу. Как выглядит природа в этом окне, можно судить по ранним картинам Леонардо да Винчи, таким, как «Мадонна Литта» или «Мадонна Бенуа». Позднее растворяется и задняя стена интерьера, после себя оставляя лишь арочную конструкцию. А когда исчезает и она, от него остается лишь рама, подобная рамке видоискателя у оптического прибора. Область ясного и отчетливого восприятия, выправленного по Евклиду, она отделяет от темнот обратной перспективы. «Композиционная память» о стенном проеме, отмеченная Даниловой, может быть истолкована как новая координатная система, — призрачная, прозрачная, но непреложная отныне конструкция, в картинном пространстве задающая новое распределение «естественных мест». Ящик уже исчез, но фигуры этого не замечают, по-прежнему теснясь на просцениуме как в невидимом ларце. «Даже в тех случаях, — замечает Данилова, — когда в картине не остается даже намека на архитектурное обрамление, в ней сохраняется композиционная память о проеме… о преграде, которая невидимым, но ясно ощущаемым барьером отделяет пространство обитаемое — от пространства созерцаемого; зону, откуда смотрят, — от зоны, куда смотрят. Разъятость двух пространств, их композиционная сопоставленность выражает основной структурный принцип картины кватроченто».
Перед нами описание координатной системы. Но верно ли определены векторы зрения? Да, обитатели интерьера видят пространство необитаемое — но зрителю открывается новый вид и на человека, и на природу. Семантика здания изначально двойственна. Будучи полым телом, оно допускает обращение внешнего и внутреннего планов: как интерьер, оно отображает пространство, как экстерьер — тело. Это ему позволяет служить прообразом как пространства, так и тела. В физике эту функцию выполняет система отсчета — идеальное мерное тело, воплощающее пространство.
Правила центральной перспективы — это принципы построения прямоугольной сцены с бесконечной глубиной. Брунеллески материализовал, а Альберти описал ее идеальную конструкцию, втайне вызревшую на фоне икон. Но если Брунеллески магический (бесконечной вместимости) ларчик применил для изображения флорентийской площади, то Альберти его использовал для «демонстраций» громады мира. Если поначалу перспектива служила ларцом для драгоценной фигуры человека, то далее перспективный ящик «демонстрирует» природу. Объемлющее и объемлемое поменялись местами: раньше перспективная форма заключала «фигуру» изображения, теперь — ее бесконечный «фон». А в следующем веке правила пропорционального увеличения и уменьшения предметов, выработанные живописью для изображении интерьера, осваиваются физикой при создании «зрительных труб».
1 Даже спустя сотню лет после открытия этой точки теоретики живописи ее объясняли столь же невнятно. «Она находится посередине, как центром мира является Земля. Эта наша точка… является основой и правителем всех наших работ. От нее рождается перспектива» (Пино). В современных учебниках по компьютерной графике она определяется проще. Точкой схода называется такая точка в пространстве, в которую превращается объект при удалении его на значительное расстояние». Можно сказать, при удалении объекта в бесконечность.
2 Альберти. Три книги о живописи. «Эстетика Ренессанса». Т. 2. М.: Искусство, 1981. С. 331.
3 Альберти. Три книги о живописи. «Мастера искусства об искусстве». С. 29 и далее.
4 См. гл. 5 работы И.Е. Даниловой «Брунеллески и Флоренция». М.: Искусство, 1991, а также: Лазарев В.Н. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве. Т. I. М.: Искусство, 1979. С. 46–47.
5 В дальнейшем художники нашли способ доносить этот факт до сведенья зрителя, не просверливая картину, а просто размещая в ней малое круглое зеркало, обращенное к зрителю и отображающее ее творца. Самый знаменитый пример такого решения — портрет купеческой супружеской пары Ван Эйка, а самый, пожалуй, сложный — изображение королевской семьи у Веласкеса. См. М. Фуко Слова и вещи, а также послесловие В. Подороги в издании: М. Фуко «Это не трубка». М.: Художественный журнал, 1999. С. 101–108.
6 Panofsky E. Die Perspektive als symbolische Form. Aufsatze zu Grundfragen der Wissenschaft. B. 1964.
7 Флоренский П. Обратная перспектива. Соч. в 4-х т. Т. 3 (I). М.: Мысль, 2000. С. 46–100.
8 «Современное перспективное представление пространства средствами живописи основали художники, в которых совершился великой синтез готического с византийским — Джотто и Дуччо. У них впервые обнаруживается снова закрытое внутреннее пространство — живописная проекция того пространственного ящика, который был создан северной готикой, в элементы византийской традиции». Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. Т. 1. М., 1956. См. также работу, указанную в прим.5.
9 «Живописцы Ренессанса выработали особое деление пространства на три плана при изображении пейзажа. Передний план обычно писался в буроватых тонах, средний — в зеленых, а дальний план — в голубых. Это тональное деление пространства на три плана … упорно продержалось в европейской живописи до конца 18 века, когда под влиянием акварели живописцы стали стремиться к более легким, текучим, неуловимым переходам пространства, к уничтожению коричневого тона. Но, в сущности говоря, только импрессионистам удалось окончательно освободиться от векового гипноза трех планов». Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. М., 1970. С. 395.
10 Призванная служить человеку универсальным фоном, природа не может без ущерба для себя стать ограниченной — фигурой картины. Внутри человеческого мира живая природа заключается в невидимую или видимую клетку; или сковывается цепями, как «Обезьянки» Брейгеля.
11 И еще в одном отношении роль среднего плана (изображений интерьера, одежды, городских улиц и прочего вещного окружения человека) исключительна. Эта часть картины исторически наиболее изменчивая и потому наиболее характерная. Именно потому, что историческую действительность картина изображает «реалистически», она отображает также временную дистанцию, которая с течением времени меняет ее художественный смысл. С изменением привычного нам мира вещей меняется восприятие Джоконды. Меняется ее платье — оно представляется все более необычным, становятся все более неуловимыми ее осанка, поворот головы, движение рук, улыбка — они значат иное, они меняются с течением времени, как будто картина живет — отображает, словно в обратном течении киноленты, жизнь культуры.
12 Заметим, что зачаточный живописный ландшафт зарождался при заселении иконных горок растениями и деревьями, а также из-за смягчения их угловатости, то есть посредством затушевывания как раз той геометрической правильности, которая могла бы спровоцировать применение центральной перспективы.
13 Названное разделение можно иллюстрировать примером театра, где эти слои различаются предметно. Единственным героем сцены является человек, который лишь по мере надобности обзаводится бутафорской культурой и декорационной природой — и притом далеко не во всяком театре.
14 Данилова И.Е. Искусство средних веков и Возрождения. М.: СХ, 1984. С. 42.
15 Там же. С.19.
16 Что доказывается, в духе Флоренского, ссылками на положения теории множеств. См.: Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения (условность древнего искусства). М., 1970.
17 Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись. М: Искусство, 1970. С. 112.
18 «Здание (так же, как и пещера в иконах Рождества Христова или Воскресения) никогда не заключает в себе происходящее событие, а служит им фоном, так что сцена изображается не внутри здания, а перед ним. По самому смыслу иконы, действие не замыкается, не ограничивается тем местом, где оно исторически произошло…Только с XVII века русские иконописцы, подпавшие под западное влияние, начинают изображать действие, происходящее внутри здания». Успенский Л.А. Богословие иконы Православной церкви. «Православная икона. Канон и стиль». М. 1998. С. 115.
19 Лазарев В.Н. Происхождение итальянского возрождения. Т.1. М.,1956.С. 145. Это тем более примечательно, что само «чувство интерьера» открыто только христианством. «Для всей дохристианской древности, включая неевропейские культуры, внутреннее пространство, как художественный предмет, качественно отличный от реального пространства, остается неизвестным или доступным только в граничных случаях».
20 Там же. С.154.
21 Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение. М.: Искусство,1970. С.75.
| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| ← предыдущая следующая → |